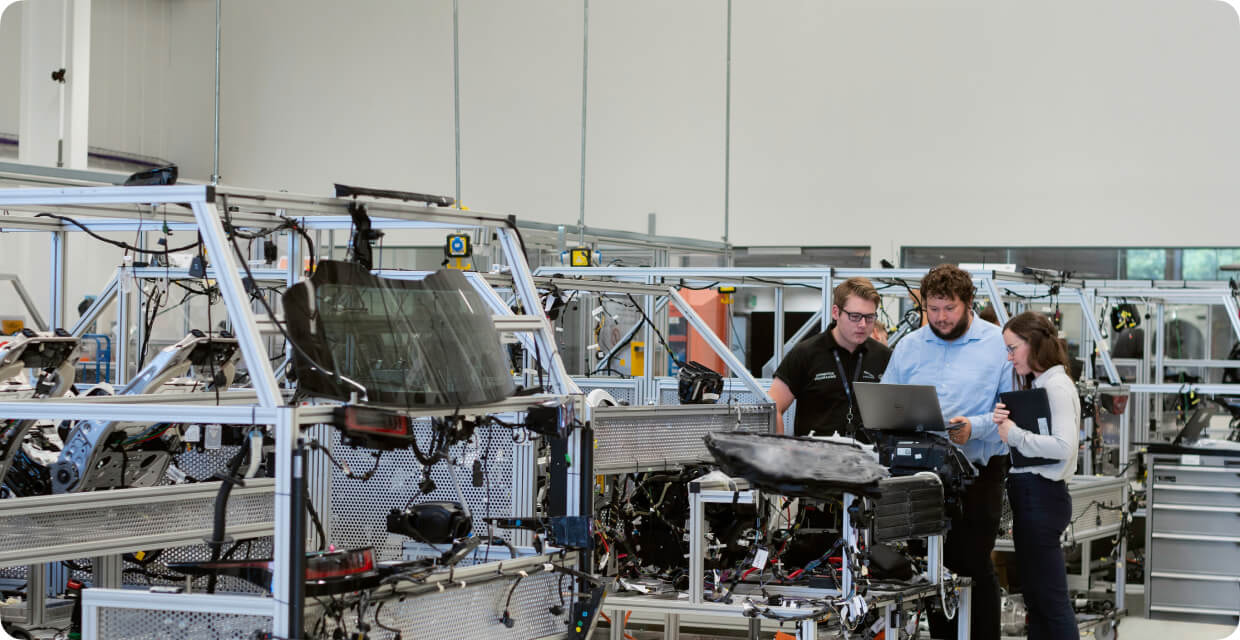Использование металлолома может подорвать стремление Европы к декарбонизации
Сталь — основа европейской экономики, она используется во всём: от автомобилей до ветряных турбин, от железных дорог до зданий. Она также является одним из самых углеродоёмких материалов в мире и отвечает почти за четверть промышленных выбросов ЕС.
Движимая своими амбициозными климатическими целями, Европа стала лидером в глобальной гонке за декарбонизацию стали, реализуя такие пионерские проекты, как HYBRIT в Швеции, где в 2021 году была произведена первая в мире сталь без использования ископаемого топлива, а также Hydnum Steel в Испании и GraviHy во Франции, которые изучают технологии производства железа прямого восстановления (DRI) на основе водорода и электродуговой печи (EAF).
Однако принятие окончательных инвестиционных решений по полномасштабным низкоэмиссионным сталелитейным проектам остаётся ключевой задачей в текущих рыночных и политических условиях.
Тем временем, Китай и Индия также быстро продвигаются к декарбонизации, инвестируя миллиарды долларов в масштабирование производства низкоуглеродистой стали, в основном в водородные технологии. С предстоящим принятием Брюсселем Закона об ускорении промышленной декарбонизации (IDAA) — предлагаемого ЕС закона, направленного на ускорение внедрения чистых технологий, — у политиков появляется критически важная возможность обеспечить сохранение Европой своего лидерства в области экологии в условиях растущей конкуренции.
Но для этого необходимо избегать чрезмерной зависимости от «отвлекающего маневра» отрасли: металлолома.
Использование переработанного металла (или «лома») в производстве стали — это экономически эффективный путь к декарбонизации, который соответствует стремлению Европейской Комиссии ускорить переход к экономике замкнутого цикла. И в какой-то степени это правильно, поскольку повышение уровня переработки сокращает отходы, снижает энергопотребление и обеспечивает немедленную экономию выбросов.
Однако, хотя металлолом может эффективно снизить прямые выбросы углерода сталелитейными предприятиями до 58%, он не является панацеей, поскольку его потенциал изначально ограничен его доступностью.
В глобальном масштабе лом покрывает около 32% спроса на сталь, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель увеличится лишь до 46%, исходя из исторических показателей производства стали. И хотя в Европе наблюдается многообещающий переход к производству стали в электродуговых печах, где в среднем используется 71% лома, это может привести к дефициту лома уже к 2030 году.
Комплексное решение по снижению выбросов, предлагаемое IDAA, должно учитывать ограничения, связанные с ломом, и одновременно формировать рыночные сигналы, необходимые для стимулирования инвестиций в технологии производства стали с низким уровнем выбросов, масштабирование которых требует более 100 миллиардов евро.
Необходимы не жёсткие и быстрые правила относительно содержания лома, а продуманные правила, основанные на достоверных данных.
Эти принципы включают три аспекта:
• Последовательное измерение и раскрытие информации о содержании лома
• Прозрачное, глобально сопоставимое измерение и раскрытие информации об интенсивности выбросов не только прямых, но и косвенных
• Объективная «шкала декарбонизации стали» (иногда называемая скользящей шкалой), которая отражает тот факт, что не существует единого оптимального соотношения лома и первичной стали — оно зависит от технологий и требований каждого производителя к продукции.
Хорошая новость заключается в том, что все три шкалы либо уже хорошо зарекомендовали себя, либо легко реализуемы. В совокупности они помогают компаниям и государствам-членам использовать лом, когда это экономически эффективно, и первичное низкоэмиссионное железо, когда это нецелесообразно.
Версия IDAA, учитывающая этот нюанс, не только уравняет условия для производителей стали, но и снизит риск утечки выбросов, будет стимулировать инновации по всей цепочке создания стоимости и обеспечит, чтобы европейская сталелитейная промышленность не отставала в глобальной гонке за декарбонизацию.
Европе нужна не только низкоуглеродистая сталь. Ей нужна конкурентоспособная, надежная и глобально значимая сталелитейная промышленность на протяжении десятилетий.
Новости
Найдено 1935 статей